
СНИСХОЖДЕНИЕ. ПОРА ВЫРВАТЬ ВЕЩИ ИЗ РУК ЯЗЫКА
Удовольствие - это трата
Батай
Говорить: мы можем передавать секреты. Идти навстречу удовольствию. Вкладываемости одного секрета в другой. Предельная наглядность, воспроизводящая предметную действительность, - усиливает эффект. Обнажает языковую дистанцию. Тяжесть оборачивается хрупкостью. Невидимой нежностью.

Видимые слова — ошеломительны (1). Но грубое столкновение образов порождает квадратные небеса (осознанность (предельности) сознания) - нет головы; а в тучном брюхе - карты: ключ, птица, бокал, трубка; сочащиеся переваренным страданием и знаниями земли; излучаемые ручной головой-зеркалом-преображающим - зрителя-слушателя-пациента; бисерная красота с поглощающим взглядом (красота жеста и внимание к деталям) и ярко-красным ртом (чувственные речи) - сказки Шахеризады. Ведь карты - они же и дыры, сквозь которые исшёл дух. Чемодан наготове, трость. И навечно - летняя шляпа - от солнечного зноя барабанов Космоса. Ведь сердце отдано миру людей. Жизнь - только успевай уворачиваться - подставляться очередным дурачкам (трубам поверх барабанов). В ожидании ночи; когда вновь мерно поплывут (безводные) облака. В холоде одиночества.
Именно так живёт любая интерпретация - этажами, плоскостями.
А у Магритта главное что? - Двойственность. Глаза человека искусства всегда будут полны небесами. Глаза возлюбленной всегда будут отражать небеса, а не тебя. Как бы абсурдно это ни было, постараемся отбросить её ((возлюбленную) двойственность языка). То есть, по сути, отбросить главное в Магритте... Что, если это всё-таки трубка, а не перетекание подобия в пустоту образности, в чистую тавтологию? В конце концов, Магритт одевался как обычный человек. Писать любил в столовой, предпочитая обед - работе. Снимал домашние комедии на 8-миллеметровую плёнку. Посторонимся рассуждений о метафизике языка - доверимся образам, чтобы понять, в какой ситуации находится сознание художника? Моё сознание. Ваше. Отправиться в небольшое "терапевтическое" путешествие - "Навстречу удовольствию".

Итак, что перед нами?
Два человека. Первый - спиной. Второй - в профиль. Оба в котелках. Скорее всего, это один и тот же человек - по крайней мере, они одинакового роста. Один - смотрит, другой - идёт. Тот, что смотрит - в пальто, в то время как тот, что уходит, кажется, снял его и несёт в руках.
Я смотрит на два других своих Я.
Удовольствие первого - назовём его Идущий. Несмотря на то, что на картине он стоит; но мы видим перед чем, что и позволяет нам предположить источник его удовольствия — целеполагание: деревья, дома, и главное, рассвет. Но сначала - поле. Поле действий, посреди которого - Загадка - бледная сфера с чёрной полосой: что это - металлический шар, бубенец? Он выступает, как четвёртая стена тревоги между сценой и зрительным залом. Нечто целостное и рассечённое. Земля, внимающая вечности о своей видоизменяемости. Ощутимость предзаданного, а не противопоставляемого, небытия, оставляющего провал в подразумеваемой целостности сущего. Трепетная ощутимость, не дискомфорт. Бубенец... Есть в этом что-то детское: звон неизведанного, только потом подменённого идеей познанности, познавания. Пока только гул.
Перевод общего гула в представление автономных движений - и есть полевая работа Идущего: позволить вещам обрести себя. И быть "увиденным" ими, обрести лицо. Чтобы жить. Другим. Собой. "Навсегда".
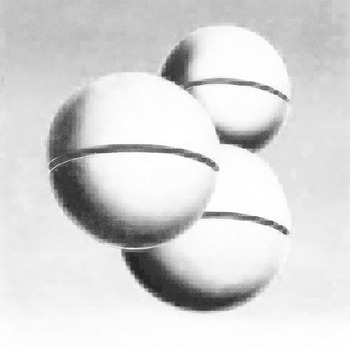
Преодоление шара - разделение времени, вычленение "срочности" вещей, лишение их пластичности, создание представления, позволяющего обретаться среди них. Но останется ли - после перехода! - дерево - деревом? Дом - домом? Заселённые им, они наверняка станут другими. Пока бубенец не пройден, не переработан, непрестанная параллельность раскрытия вещей внутри и вовне (хотя и разнохарактерна) - сохранена, или, по крайней мере, возможна: он смотрит, чтобы создать задел для будущего удовольствия - связки, которая и будет его лицом, углом зрения.
Превратившись, Идущий станет точкой, ушедшей в пространство сцепленных вещей, оставляющих коридор навстречу смерти. Там небо смыкается с землёй. Бездна же будет в нём самом, вещи утратят свою ценность, он встанет после них. Они будут лишь инструментами - живыми гитарными деками, встывшими в голову, необходимым наростом, горящим полно-тело. И ночью светло, и днём. Бездна в них - их проблемы.
Но пока Идущий стоит, вещи - залог его несравненности. Здесь его собственное тело находится на их же стороне - оно источник, бубенец изнутри. В этом тоже своё удольствие: в нём заключена двойственность, порождающая желание движения. Потому что нельзя долго обретаться среди вещей, потому что всегда есть риск оказаться внутри них - как некая неизбежность – поэтому Идущему нужно идти. В правильное место.
Его гонит невыносимость собственного взгляда — на вещи: на их
отдельность и конечность,
вступающих в противоречие. Первое
свойство будто бы
предполагает целостность, а
второе - создаёт сокрытость.
Противоречие — как
залог движения для человека,
претерпевающего собственную недоопределённость в последнем
исходе, -
возникает благодаря тому,
что (взирая) Идущий перенимает историю вещи на себя, хотя и осознает,
что это
заслоняет саму вещь как таковую.
В первую очередь, Идущий примеривает на себя отдельность вещи, чтобы подтвердить свою целостность. Однако, не прерывается ли отдельность вещей, внушаемой им самим историей, которая ведь меняется же при приближении к вещи? Значит, оставаясь на месте, Идущий, прежде всего, обманывает самого себя. Целостность нарушается геометрией.

Тоже самое и с конечностью: ведь вещи остаются в его памяти, продолжая независимую от него жизнь. Более того, когда он отвернётся, пойдёт в сторону, они, возможно, сразу же начнут жить ещё одной жизнью. Так-же, как и он сам, подчёркивая при этом свою сокрытость. Однако целостность отрицает сокрытость - память не бесконечна, если нет движения: встречая те же самые вещи, он будет находить их пустотелыми, безответными. (Возможно, старые истории могут оказаться "возвратными" и будут рассказаны через новые вещи, но истории не бесконечны. И более того - он не уверен, что их сюжеты привнесены им самим. Скорее, он сам часть истории.) Разумение этого стирает непосредственность, делая бесконечными сами вещи.
Выкорчевать зрение! (Чтобы сохранить его, наравне с другими органами восприятия.) Следствие важнее причины, оно первичнее, ближе. Так тело требует максимального приближения, чтобы мы могли суметь абстрагироваться от него. Так вещи, растворясь, говорят, о том, что они не укоренены в воздухе. Но и не учитывать этого - всплытия бездны - нельзя; учитывая же - распадешься. Необходимость пере-дохнуть. Всосать в себя весь воздух. Желание сказать: всё это сосуществование, а не питание. И тут возникнет лицо - как читаемое, не с бездной внутри - со своими проблемами. Тело сольётся с вещами, вещи - с собой, человек - с бесконечностью внутри них. Но "всосать воздух" не есть "выпить море" - непосильная, но вообразимая задача. Наоборот, бесконечность из объёма превращается в сюжет, в сюжеты, среди которых - твой. Со своим домом, деревом, ходом солнца, точкой заката. Во-площ-ение - вхождение взгляда во плоть. Для этого Идущий стоит. Для этого нужно идти, роняя. Помня, но не всё. Перестать слушать тело. Его сообщения - лишь о том, что оно сообщает кровь. А что сообщает кровь?
Прежде всего, она — вещь, обладающая наибольшей степенью неприкосновенности. Она ни отдельна, ни конечна - пока она в нас. Однако, когда мы её слушаем - она кажется нам вещью, блуждающей, определяющей наш центр, пространство внутри нас. Её сила начинает согласовываться с бездной внутри вещей. А её правда - с нашим одиночеством. Бубенец. Но бубенец уязвимый представлением другого представления - не просто о гуляющей крови, а о том, Кого она полнит (Идущего) Представлением других - смотрящих в спину, вылезающих из бубенца. Снова детство. Сквозь которое нужно пройти Идущему.
Представляя себя целостным, а в глазах других - вещью, Идущий (пока он стоит) делит сам себя, лишает свою кровь силы. Здесь - причина движения. Сила же эта - возможность взаимного рывка, для Идущего и для Земли. Идти - значит уничтожать одно, возвеличивая другое. Сила нужна, как возможность уничтожения чего-то вместе с Землёй, а не просто по велению её слуха - сдвиг, возможность решающего мгновения, когда Идущий не собьётся, останется принадлежным порядку, как самому себе. Потенция его рывка — нарушение порядка историй внутри вещей - сродни тому, как вещи претерпевают непознанность им, зависимость от дистанции. Но чувства-то никуда не уйдут, просто они будут принадлежать другому - познанию смертного, благодаря познанности границ.
А тот, что в профиль (назовём его - Уходящий), он ищет удовольствия за границами картины. Наверняка, это нечто постыдное. Прежде всего, тем, что он остаётся на знакомой территории: невежества, пассивности - знакомое любить проще. Видеть хотя бы половину своего лица - профиль. Но он идёт. Он идёт "в обход", заслоняя от себя горизонт красным занавесом, в складках которого трагедии, страсти, инфантилизм - короче, бурление крови.
Уходящий отличается тем, что оставляет вещи свободными: их темнота - его темнота, их свет - возможность света и в нём. Чувства - мотор не твёрдого, но мягкого внутри него, как занавес, красный, как кровь, полный замысловатых складок - как рост его тела, свободный, ломкий. Заслоняя и себя, и мир - миром и самим собой, вглядываясь в изнанку, утверждая её во всём, как тёмный свет, но основываясь лишь на вере, так как затылок говорит о предначертанности пути Идущего. (У того, в свою очередь, Уходящий сидит в виске, как закон.)

Иначе говоря, бубенец звенит, не возбуждаемый взглядом, а возбуждая взгляд, вынимая вещи на свет по-отдельности, заслонив общий пейзаж красной материей. Мерцающий свет - рождает веру о цвете (цветах) камня, о его внутренности не равной его поверхности (не-твёрдости, не-каменности). Видимый цвет - отстраняет от нас самих себя, при-даёт нам настроение, отчуждая от собственной материальности, лишая лица снаружи и утверждая его внутри, но позволяя увидеть в себе свет через о-сознание одного касания. Этого вполне хватает. Эдварда Джеймса это удовлетворяет (удовлетворение при-ближением). Но кто такой Эдвард Джеймс?
Уходящему может обойти всю сцену ("я был зрителем, но теперь - я иду до конца") в темноте за задником (с нарисованным ранее горизонтом), и выйти вновь слева (чтобы стать Идущим?). Декорация к тому моменту, быть может, переменится, и бубенец сольётся с солнцем, не обязательно красным. Но здесь заключена опасность - пальто взгляда оставлено - переменится не только декорация. Как будто двойное отрицание: противостояние распадающемуся миру - собственным распадом (или наоборот?).
В любом случае — и в том и в другом случае, перемещение случается в шляпе. Замкнутости внутрь себя. Я — Я... Магритт говорит, что нет ничего банальнее шляпы. Но почему же тогда он сам её носил - не хотел казаться оригинальным? То, что вначале нам импонировало, теперь может вызвать подозрения. Желание преподносить себя вне отличий, соотносить себя со временем - это желание быть во вневременном. Буквально. Видеть запредельное посредством видения поверхности. Поверить в чистоту этого чувства через картину, отображающей внутренний мир через внешние объекты. "Никакой аффектации, - говорит Магритт, - быть как можно дальше от аффектации". Быть вдалеке от видения реальности под воздействием хаоса сознания. Здесь догадка о том, что оба пути к удовольствию - это строительство на пустоте. Аффектация приближает догадку к Знанию с большой буквы. Быть вне аффектации — тотально, забыть о силе крови, не видеть в ней силу - отпустить её. Неприкосновенна не она, а обитатели пространства — вещи. Перевод звука в пространство - через меня. Как будто весь мир увеличился до двусмысленности бубенца. Полюса сообщаются сквозь тёмную прореху, и эта прореха - я. Удерживающий оба удовольствия: удовольствие Идущего в стремлении быть синхронным и удовольствие Уходящего обнаруживать прорывающийся из-за занавеса свет, чтобы выдумывать истории для Идущего, верить в него. Нужно удерживать обе эти расходящиеся дорожки, но не себя в них - "вне аффектации" - сдержать сращение полюсов бубенца, редуцируя до утилитарности поверхности, извлекая скрытый, но не сказать, что всеохватывающий, порядок.
Ведь у каждой поверхности - свой импульс, ведущий вглубь меня самого. Я — Я. Мир смывает всех своим ростом, но я остаюсь. Говорит Магритт: "Пожалуй то, что является таинственным можно предсказать. Возможно, непредсказуемое и может приносить наибольшую радость. Когда мы видим незнаемое, оно тянет нас к себе. Потому что на самом деле, я думаю, мы хотим быть не теми, кем являемся на самом деле, а кем хотим быть”. Ещё одна цитата: "Если в детстве любая живопись казалась мне волшебством, то теперь я очень скоро усвоил, что, к несчастью, живопись имеет крайне отдаленное отношение к повседневной жизни, что любое притязание на свободу, как правило, становится объектом светских насмешек". Конечно, здесь связь между кровью и вещами не разорвана, более того - она установлена. Через удовольствие от наполненности смыслами.

Это удовольствие быть углом в девяносто градусов, упёртостью в поверхность. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы:
чувствовать в себе потенциал и того — вертикального,
Идущего Я — высоты треугольника, ведущей к острому углу,
заимствовать у него внимание, и
другого — стелющегося,
Уходящего Меня - основание треугольника, ведущее к
тупому углу, заимствуя у него горение;
видеть картину-переход - поле или складки -
предельно наглядно, и довольствоваться этой видимостью.
Предельной видимостью внутренних перспектив-плоскостей -
оквадарчивающейся гипотенузы, -
через наглядность изображаемого (видимого) объекта-сюрприза,
знакомого и незнакомого -
как я сам себе.
То есть гипотенуза - известна, если удерживаема, изнутри; соотношение катетов - нет. Да и девяносто градусов - это предположение, возможность, ведь Уходящий и Идущий - всё-таки один и тот же человек. Удержание гипотенузы происходит собранностью мира; её оквадрачивание, предполагающее катеты происходит за счёт картины-проекции, гипотенузы на картину, ещё одной линии, параллельной гипотенузе во внутренней площади треугольника, оставляющей меньший треугольник для взгляда (его таинства) - и некий трапециевидный излишек по ту сторону картины-проекции до гипотенузы, который мог бы всё спутать, но он же и залог мощи картины, её парадоксальности, переход к квадрату Закона.
Похоже, что мы несколько увлеклись и неизбежно приближаемся к метафизике слов. Впрочем, это простительно, поскольку мы не отклоняемся от главной задачи - не концентрируемся на противоречии между планом выражения и планом содержания, ведущим нас в лабиринт бесконечного интерпретирования вместо приятного путешествия. Достаточно того, что Магритт указывает на осознание этой бесконечности (и осознанного отказа от неё), как на собственную форму удовольствия. Однако, доверяясь другому угадыванию, внутри картины, а не снаружи, можно найти подобие выхода из упомянутого выше противоречия, которое можно обозначить как «парадокс», основы той плоскости, из которой рождается картина. Выходом этим будет «говорение».
Опора на картину - это опора на непознаваемость самого себя, точнее, своего заголовка, которым обладают вещи через поверхность. Операция умножения отрицательных членов - играющих чувств, которые трудно принять за нечто серьёзное, и неоспоримых (но непроницаемых вне игры) тел и вещей. Парадокс - момент акцентирования невозможности реальности внутри данной операции, что ставит под сомнение и её члены.
Но это - "Запрещённая репродукция". Зеркало, в которое видно только затылок. Два затылка - наглядно только третье - небывалое. Она оттого и запрещённая - репродукция - что лучше, когда парадокс делает вид, что говорит о чём-то другом, нежели о самом себе, не воспроизводит невоспроизводимость (хотя, конечно, к пародоксам никакая категориальность не применима).
А опора на говорение - это горение навстречу свету. Сложенность Идущего и Уходящего (свет и мерцанье - двухмерность). Говорение одновременно питается раздражением предельности уподобления себя вещи внутри слов и глубокой удовлетворённостью тем же самым (заголовком), тут же отталкиваясь к следующей вещи, теряясь и возрождаясь, протягивая нить навстречу (не)возможной отобразимости. Которая в каждое мгновение может оборваться, из-за неправильного уподобления. То что оно неправомерно - это априори. Другая опора говорения - подчёркнутая воспроизводимость вещей. То есть оно лишает нас не только индивидуальности, но и нормальной смерти (2). Но благодаря парадоксу, мы знаем о возможности выхода за рамки времени. Можно сказать, что говорение — это игра в хождение сквозь стены в поиске ответа на вопрос, что останется?
Итак, опора на парадокс возникает, когда тесно во времени. Опора на говорение - следствие тесноты пространства. Хотя собственные основания они, конечно, находят друг в друге: парадокс обеспечивается вниманием к пространству, говорение - временной протяжённостью, линейностью, безлимитностью.
Мы можем дунуть Идущему или Уходящему в затылок. И получится "Запрещённая репродукция". Правда, в этом будет немало самодовольства - мы же не Магритт. Но рядом. Он наш дедушка. Если мы продолжаем находиться под началом его "Терапевта": в поисках общего основания сознания - кажется, этот поиск составляет сейчас наше удовольствие. Если мы говорим. Передаём секреты. Или отворачиваемся от них? В молчании отворачиваемся от мирового древа и находим удовольствие в поедании голоса: может быть, это был всего лишь звук, лишённый смысла? (Другие картины — прототипы предшествующие.)

Однако дело в обратном: смысл есть, но неведом его источник, проходящий, как на зло, во меня, он даже и есть Я. Удовольствие развёрстого переходит в удовольствие чувством его обладания. Поедания. Ведь приличия не позволяют съесть кого-либо другого вместо себя. Удовольствие чистых рук, кружевных манжетов, «глаза склоняя долу». Потому что приличие - это «белая зависть» к птицам, сидящим на коричневом, как платье, древе. Платье, за которым мы скрываем тело-источник, желая обладать им осмысленно, предполагая, что сможем расти дальше и так. Если я сама (теперь уже) - всего лишь платье, растущая одежда Загадки, то и голоса - не жалко. Жажда определённости, физиса, насыщение крови, но не поиск ответа - ноги девушки находятся за рамками картины. (Так же как и верхушка дерева, как ни вглядывайся в кору.) Движение к открытию самого себя в самом себе, абсолюта в независимости. Даже от смерти - которую она познала через смерть птицы - вместе с познанием удовольствия быть съеденным. Вечность в преходящясти. Как дерево. Ни горения внизу, ни внимания наверху, оно делегировано за рамки: из точки - Меня - родится новое целое пространство внутри пространства. И это происходит - одновременно со мной — и... после меня (3).

Мужской тип движения в этом направлении другой - движение отделения мрака непознаваемости от своего тела. Вечное движение. Дикарь-атлет смотрит нам под ноги, на поступь познавших самих себя (через самоконтроль?). Нет надежды на то, что сознание спасёт. Чёрное солнце отражает солнце. Однако неразрывная связь - присутствует. В руке. Поднять рукой. Силой. Уравновесить, сравняться. Чтобы быть достойным этой прекрасной материи, явленной во взгляде на нас - и в фоне. Материя - водная субстанция - озеро - таким же гладким и равновесным должен быть в себе мужчина (кровь в теле мужчины), чтобы иметь способность отделить красоту материи от темноты её непознаваемости, придать форму - выдвинуть крайность квадратных теорий: туннеля или треугольной арки (или остаться бочкой-терапевтом, когда форма не установима). Вода - отражает эти предположения, помогает. Но она не сила - сила в темноте - как части грубой силы мужчины - головной части. (Безнадежная сила.) Другую опору придаёт наследственность - кость в правой руке - поэтому теории и предполагают прохождение сквозь - сквозь жизнь. (Надежда всегда бессильна.) По законам гор: где есть только человек - и загадочная природа (природа Загадки?), гармоничной частью которой он стремится стать. Так как знает - и своё превосходство, и родство. Но такая форма не восстановима, пока руки поднимают невесомое - связь, в которой больше надежды, чем силы.
В первом случае: самоуничижение, сжатие до точки, при потребности во впитывающем живом пространстве. Во втором случае: самовозвеличение, самораспространение - желание пересилить мрак - в себе и во вне, при неустранимой зависимости от него, как связующего. Женское сложение, мужское вычитание - половое говорение, в первом случае упирающееся в течение (жизни), во втором - в обрыв (смертью). Но возможен ли выход вне холода парадокса, но подобный ему?
А. Внутренний мир

Обратим взгляд вовнутрь. Уйдём от "гендерного" выбора. Красная занавеска останется. Небо никуда не уйдёт. Но отыщется ли Я? Нет, глаза будет заслонять лиственное полотно, простые структуры от корней дышашей планеты, на их питательных ветвях сидят голоса, сверлящие нашу душу - мы питаем их сами, мы их туда посадили, полюбили. Чувства тоже взаимосвязывают. Они часть нас самих. Они - Я. Но не Я - вписаны в структуры, подсаженные поют. Не ключи, не бокалы, не дыры. Они тоже нас научили. По крайней мере, речи. А растение? Растение растёт, убрав бубенец под себя. Та же комната, то же поле. И равнинная река в нём. Вместо шара — стакан на подоконнике (парапете). Внутреннему взгляду - всё вода. Стакан - форма. Форма преодоления. Только форма стакана заставит нас выбраться из застенок, избавиться от занавеса, ощутить себя в поле, небо полудня. И равнинная река. Совладать с субстанцией - материальность крови обнажает воду во всех вещах (уничтожая формы, как таковые). Но ведь внутри у тебя всего лишь стакан, река - за окном. Вылить стакан под себя - и возвыситься. Или вылить его за окно - вдруг перед окном что-то вырастет... внешний взгляд. Художник неизбежно говорит больше, чем хочет сказать. То есть почти ничего себе самому.
Б. Ящик Пандоры

Я — У. Отсечём трапециевидную большую площадь по ту сторону - и та сторона возникнет. Чёрная полоса - вплотную. Нет никакого поля - весь мир закатен (кровью дунувшего нам в затылок) - уничтожены сутки. Белые полюса - они будут дурманом чистой и невинной розы, вынужденной отрастить шипы. Ноты - белые лепестки: взять в руки прекрасную композицию доступных истин и смело вернуться в мир электроволн нас. Ты никогда не будешь после времени. Чёрная полоса - одежда из бездны, камень моста. Переворот. Роза заместит тело, а небо - душу. Реакция на розу - гроза неба.Тем более, если есть кто-то (тот, кто дует в затылок?) в окне здания на том берегу. Мы можем смотреть только сквозь собственный затылок, заранее прострелив его.
В. Идеал?

Но есть и более радикальное снятие, почти полностью лишённое парадоксальности, если бы не юмор - бессмысленное бурление, противоестественное, как жизнь. Зачем смотреть сквозь затылок и представлять своё лицо антропоподобным? - Нужно прекратить примеривать на себя святость, ведь можно просто облечься в неё, оставив святое за спиной. Не смотреть на отдельность - быть ею. Разделить, забыть, развернуться. Это много. Пухнущее сознание, сворачивающее всё не в черты, а в шар, кроме лица, конечно, - центра. Незаходящее солнце моей головы. И тело - оно в костюмировано! - представимо - и представляемо. Мужское наоборот. Всё что осталось от его вертикали - красная стрелка галстука - внутренний рост выворочен наружу и всякое шейное сообщение не берётся в расчёт (4).
Парапет забывания. Что нам нужно забыть, чтобы стать отдельностью? Память - взгляд на море материи, на облачное небо фантазии сквозь утраты и обретения: высохший лист внутренней жизни, страсти занавес (во-площение до приближения), кровь на Её глазах взамен на Её сознание, ставшее твоим. Живая кровь по мрамору. Хотя Имя может быть любым, "Её" - это лишь местоимение.

Да мы и не нужны сами себе. Мы не нужны сами себе. (Местоимения.)
Нам нужны лишь прекрасные реальности, чистота знаний о них. Жизнь — чистый вкус. И если в наброске к этой картине яблоко парит в небе, стол с белой скатертью стоит на берегу, виден горизонт, то в окончательной версии смычка горизонта стирается, мы сами воспаряемся в небо, стол держится на знаниях, вкусе, море — внизу. (Снисхождение.)

Примечания
1. Мы не сказали "воплощённые" - известно, Кто есть воплощённое Слово. Картины Магритта нельзя назвать воплощёнными образами, так как тем самым мы имели бы ввиду, что значение того, что они волощают - дано в названии. В контексте оговоренного в тексте иконографического подхода к рассмотрению содержания картин Магритта, это было бы верно, но сам "подход" - часть игры, вибрация которой сродни вибрации, возникающей между названием и картиной в творчестве Магритта. По крайне мере, нам хотелось бы в это верить.
2. Тот, кто много врёт, не своею смертию помрёт.
3. Интересно сравнить: Цветаева пишет Пастернаку в письме: "Ты не понимаешь Адама, который любит одну Еву. Я не понимаю Еву, которую любят все. Я не понимаю плоти, как таковой, не признаю за ней никаких прав - особенно голоса, которого никогда не слышала. Я с ней - очевидно хозяйкой дома - незнакома (подчёркивание - наше).(Кровь мне уже ближе, как текучее.)" - 10-го июля 1926 г., суббота. Переписка Бориса Пастернака. М.: Художественная литература, 1990
4. Интересно сравнить с местом из послания апостола Павла: "Гортань их - открытый гроб" (Рим. 3:13). Или с поиском души в горле или в пустоте кишок в романе «Счастливая Москва» Андрея Платонова.
Огромное спасибо Любарбаре Бластер Туиновой за запись текста и редактирование





